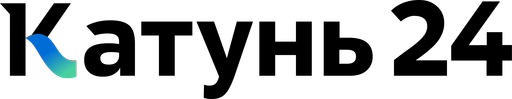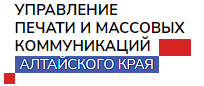Андрей Пржездомский: о современном терроризме

Гость нашей студии – официальный представитель Национального антитеррористического комитета, кандидат исторических наук Андрей Пржездомский. В течение недели он работал в Алтайском крае. Поговорили о современном терроризме и попытались ответить на сложные и актуальные вопросы общественного дискурса: как быть родителям, чтобы их детей не вовлекли в совершение террористических актов, откуда исходят угрозы вербовки, как должно действовать государство, чтобы обезопасить граждан в условиях растущих и меняющихся угроз. Об этом и не только в нашем интервью.
– Что такое Национальный антитеррористический комитет? Что это за организация и чем она занимается?
– Национальный антитеррористический комитет был создан в 2006 году в соответствии с законодательством России. Он наделен определенными полномочиями. По существу его задача – скоординировать действия всех силовых структур, государственных органов, иных структур, которые участвуют в пресечении террористической деятельности. Это было сделано, прежде всего, для того, чтобы исключить параллелизм в работе, для того, чтобы создать такой кумулятивный удар по терроризму и обеспечить скоординированность, слаженность всех действий государственных органов. Это привело к желаемым результатам, поскольку все, конечно, помнят начало двухтысячных: разгул терроризма, кровавые преступления, взрывы домов, взрывы в местах массового пребывания людей, пылающий Северный Кавказ. Все это в нашей памяти. В Национальный антитеррористический комитет входят представители всех основных федеральных органов. В каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в Алтайском крае, есть антитеррористическая комиссия. Если на федеральном уровне НАК, Национальный антитеррористический комитет, возглавляет директор Федеральной службы безопасности, то в регионах антитеррористические комиссии возглавляют губернаторы, руководители субъектов. Эта вертикаль, можно сказать, стратегическая и профилактическая, но есть еще боевая. Во главе федеральный оперативный штаб и оперативные штабы по линии противодействия терроризму в каждом субъекте. И федеральный оперативный штаб возглавляет тоже директор ФСБ. Тем самым обеспечено единоначалие и четкая система ответственности и распределения полномочий. Благодаря этому за достаточно короткий срок удалось одолеть такой массовый агрессивный наступательный терроризм, разрушить систему построения террористических организаций в нашей стране. Мы пришли к тому, что сейчас эта стройная система противодействия терроризму с помощью и силовых, и профилактических методов действует, и мы добиваемся желаемых результатов.
– На лекции в Алтайском государственном университете вы общались со студентами. Я обратил внимание на одну мысль, которую вы озвучили, как меняется лицо современного терроризма как минимум в части его исполнителей. Вы говорили о 90-х, о начале 2000-х: Волгодонск, Буйнакск, Первомайское. Все помнят эти события. И сложился стереотипный образ террориста. Шамиль Басаев, Салман Радуев, Хаттаб, черные вдовы в «Норд-Осте». Но сейчас террористы выглядят по-другому. Как изменилось лицо исполнителя теракта за прошедшие 20–25 лет?
– Действительно, произошло очень серьёзное изменение в самом действии террористов и главное, в субъектах тех, кто осуществляет террористическую деятельность. На сегодняшний день мы видим, что происходит процесс омолаживания террористического контингента. Если раньше это были в основном зрелые люди, подготовленные в лагерях боевиков за рубежом, на тайных базах, то сейчас это молодые люди, которые вовлекаются в террористическую деятельность не с помощью каких-то конкретных непосредственных контактов с вербовщиками или эмиссарами международных террористических организаций, а исключительно через интернет. Это следствие взрывного технологического прорыва, который привел к тому, что все происходит в виртуальном пространстве. Мы наблюдаем за омоложением террористического контингента, тех людей, которые совершают преступления. К сожалению, сегодня террористами или людьми, которые совершают или готовятся совершить преступления такого характера, бывают и подростки. И постепенно отмечаются факты, когда мы наблюдаем самый разный возраст и до буквально 12–14 лет. Понятно, что это еще дети. Они еще, может быть, и не осознают те действия, которые осуществляют, но от этого легче не становится, потому что совершение теракта, особенно связанное с гибелью, массовой гибелью людей, это, конечно, громадная трагедия и страшное преступление, за которое надо отвечать.
– Даже до возраста наступления уголовной ответственности есть такие примеры?
– Да, к сожалению, такие факты отмечаются многократно. Особенно меня поразило, когда на беседу со мной юного, если можно так сказать, террориста привела бабушка. Потому что он находился не в следственном изоляторе, был под домашним арестом. Молодой парень, достаточно развитый, как мне показалось, интересующийся изготовлением различных петард и подобного рода устройств. Постепенно это привело его к идее совершения преступлений по типу Колумбайна, совершения в учебном заведении преступления против своих товарищей. Ему мало было визга девчонок, когда он взорвал эти петарды в классе. Ему хотелось какого-то большого резонанса. И это ужасно. К сожалению, эти факты мы отмечаем и это большая проблема для государства. И повод задуматься, в чём причина. Одно дело что-то читать в интернете на тему радикальных идеологий и совершенно другое – конкретно уже пойти поджигать, взрывать, убивать.
– Что движет, на ваш взгляд, такими людьми, особенно в юном возрасте? Это идейность, жажда легкой наживы или банальная глупость?
– Зачастую молодые люди совершают поджоги релейных шкафов, сотовых вышек, военкоматов с намёком на то, что они имеют негативное отношение к принимаемым решениям государства. Вроде как бы политическая подоплека. И часто совершение подобного рода преступлений рядится в такие идеологические одежды. Ребенок, подросток, вот этот самый юноша или даже девушка говорят, что да, мы против таких-то действий нашего государства, мы против таких-то решений, мы за ценности, которые у нас в государстве не реализуются. Но когда начинаешь с ними разговаривать более подробно, начинаешь понимать, что об этих псевдоидеологиях они даже не имеют представления. По существу это тот штамп, которым прикрывается абсолютно банальное стремление заработать.
И это не вопрос повышения материального благополучия. В массовом сознании укоренилось представление, что все эти люди из маргинальной среды, из плохих семей, и они от безвыходности ищут способы реализовать себя, в том числе в материальном плане. Отнюдь нет. Есть семьи вполне нормальные, где никакого компонента, который позволил бы считать, что это вынудило их к подобного рода совершению преступлений, нет. Часто это просто нежелание своим трудом, своими личными качествами попытаться добиться каких-то приоритетов в этой жизни, получить уважение товарищей, какие-то деньги приобрести, на которые можно купить какие-то для себя интересные вещи. Ничего подобного. Чаще всего это стремление очень легкой наживы. Причем это выясняется в ходе беседы довольно быстро. Причем суммы зачастую смешные, это вызывает недоумение. Один 20-летний молодой человек, совершивший поджог военкомата, сказал мне, что он за 3 тысячи рублей согласился принять участие в совершении такого преступления. Когда я стал допытываться, зачем ему эти 3 тысячи рублей, он сказал для меня очень странную фразу. Он сказал: «Я очень люблю пиво, у меня не было совсем денег, и я хотел вот как-то быстро очень получить. Мне подсказали, что вот в этом-то ресурсе ты выйдешь, и там, возможно, ты получишь необходимые средства». Он 3000 рублей не получил, никто ему их не выслал, и пиво он не выпил. А вот придется ему, к сожалению, расплачиваться за это в течение многих лет.
Или другой случай, когда два молодых человека тоже решили как-то очень легко получить средства. Тоже вышли в соответствующий информационный ресурс. Им сказали: «Ребята, мы вам заплатим хорошие деньги, 5 тысяч рублей, только вы должны сжечь машину, на которой написана буква Z». Они стали искать эту машину, в конце концов, нашли в одном из дворов, подожгли, засняли на телефон, отослали заказчику, что называется, а им говорят: «Нет-нет-нет, пять тысяч вы пока не получите, вы еще пару машин найдите, тогда вот, может быть, мы вам заплатим». Стали искать. Прошерстили весь город, не нашли. И как вы думаете, что они придумали? Они сами нарисовали букву Z на одной машине, потом на другой и совершили поджоги, отчитываясь перед хозяевами. Ну, хозяева там тоже сидят не лыком шитые. Они тоже сразу поняли, что даже эти преступления они совершали по-мошеннически.
– Вербовка зачастую осуществляется удаленно, через интернет. Но всегда, когда в нашем обществе появляется новое явление, медиа или средства коммуникации, оно зачастую несет в себе как плюсы объективные, так и минусы, и риски. Из-за этого у многих людей возникает желание простых решений. Существует проблема бытового пьянства, давайте введем сухой закон. Существует проблема Telegram, где вербуют школьников, давайте запретим это средство коммуникации или интернет вообще отключим. Но ведь объективно понятно, что такие популистские методы, скорее всего, окажутся неэффективны или даже вредны. Как тогда действовать?
– Знаете, кухонным ножом ведь можно тоже убить человека. Но это не значит, что мы должны запретить использование кухонных ножей в быту. Это совершенно очевидно. Есть несколько направлений, которые действительно нуждаются в активизации деятельности и государственного механизма, и общества нашего.
Давайте разберёмся, откуда молодые люди черпают для себя информацию? Где формируется их мировоззрение? К сожалению, далеко не в семье. Когда нет контакта с родителями, когда родители не пользуются авторитетом, они все-таки отстали с точки зрения молодых людей и технологических. И иногда просто не соответствуют тем запросам, которые ребенок или подросток хочет получить. И он получает это из интернета. Формирует свои представления об окружающем мире и отдельных его элементах именно под воздействием этой информации. Виртуальное пространство и реальный мир у них сливаются в один единый образ. И они находятся в нём и иногда даже не различают, где настоящее. А где работаем мы? Где работает вся система предупреждения, профилактики? Где мы несём вот это доброе вечное знание, понятие, что такое хорошо и что такое плохо? А здесь вот мы немножко от этого отстаем. Информационное поле, в котором в большинстве своем мы работаем, это публичное пространство. Это доступная среда, это различные средства наглядной агитации, книги, телевидение, радио. А зачастую получается, что молодые люди там не находятся. Используют Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Tik-Tok. Причем зачастую в ограниченном количестве пабликов, в информационном пузыре. Так значит, нам надо выходить на эту информационную площадку, нам надо активизировать работу с ними именно с помощью тех ресурсов, которые для них интересны, привычны, востребованы. Но это не только площадка, это и качество самой этой работы. 10-минутный пропагандистский качественно сделанный ролик с хорошими словами про противодействие терроризму, скорее всего, не найдёт своего потребителя. Требуется другой формат, очень лаконичный. Мы должны приспосабливаться, использовать клиповый подход.
– Где найти специалистов, которые могли бы производить такой полезный контент и говорить с молодежью на ее языке?
– Специалисты – это молодёжь и подростки. Они могут это сделать. И я со многими с ними разговаривал в разных субъектах Российской Федерации. То у нас кибердружина, то где-то там координационный центр, то ещё какое-то объединение, медиацентр. У нас очень много всего этого. Ребята готовы делать, но им нужно информационное сырьё. Здесь задача антитеррористических комиссий – организовать движение информации, сорганизовать молодежь. Вот, например, два парня изготовили свой простенький ролик. Он нам понравился, и мы разместили на федеральных ресурсах Национального антитеррористического комитета. И никто им не платил никакие деньги. Для них это было самой большой наградой.
– Вы общались с представителями силовых ведомств Алтайского края, с губернатором Виктором Томенко. И речь шла в том числе о межведомственном взаимодействии. Как, на ваш взгляд, это влияет на оперативное реагирование на опасные ситуации? Насколько эти связи важны и как вы оцениваете эту работу в Алтайском крае?
– Да, действительно, это одна из проблем, которую мы здесь решали. У нас прошел целый ряд таких серьезных совещаний, где мы смотрели, готовы ли мы сработать в экстремальной ситуации, насколько мы способны взаимодополнять друг друга. Это довольно слаженный механизм. Единственное, чего иногда недостаёт, – готовности к ситуационному реагированию и профилактической работе. Главное, сделать все для того, чтобы не произошло теракта. Очень много разговаривали о том, как нам активизировать работу по профилактике терроризма. Инструменты те же самые, в том числе антитеррористический контент, который должен быть интересным, ярким. И главное, как избежать формально-бюрократического подхода. К сожалению, у нас часто, знаете, получается так, что на бумаге, в отчётных документах, в статистике всё очень хорошо, и все, в общем-то, остаются довольны, а вот конкретного результата мы не достигаем. Я еще употребил на закрытом совещании словосочетание «боевое слаживание». Вот нам нужно боевое слаживание всех сил и средств по противодействию идеологии терроризма. И здесь еще есть чем заниматься.
– Безусловно, государственные органы не могут прийти в каждый дом, тем более вы уже упоминали, что в основном воспитание должно бы производиться в семье, но, как правило, на практике получается, что это не так. Есть ли какие-то советы для родителей, на что обратить внимание?
– Мировоззрение человека формируется, прежде всего, в ранние годы, в семье. И здесь очень важен вопрос. А испытывает ли доверие к своим родителям, чтобы поделиться своими проблемами, своими страхами? Очень много зависит от доверия. Родители должны делать всё для того, чтобы поддержать представление о том, чем занимается их ребёнок. Не надо подглядывать, не надо обижать ребёнка недоверием, но надо обязательно создавать ситуации, при которых родители понимают, чем в данный момент занимается их ребёнок. Мне кажется, это просто универсальные правила. Они связаны не только с терроризмом, а вообще связаны с озареванием человека, со становлением личности.
– Сейчас все чаще говорят о возвращении воспитательной функции школьному образованию. Возможно, часть этой работы будет касаться вовлечения подростков в какие-то созидательные сферы деятельности. Например, в Алтайском крае очень развито поисковое движение. Я знаю, что в свое время вы тоже посвятили определенное время тематике поиска янтарной комнаты. Наши поисковики в основном работают на полях сражений Великой Отечественной войны. Вот, может быть, в этом направлении в том числе стоит работать, как вы считаете?
– Во-первых, поисковая работа – это очень увлекательное дело. Мне довелось еще в юношеском возрасте принять участие в совершенно романтическом поиске янтарной комнаты на территории Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии, Германии. И это незабываемые события, когда ты находишь какие-то уникальные вещи, о которых мог только читать в книгах или смотреть в фильмах. На мою жизнь это наложило определенный отпечаток. В конце 80-х годов к генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву обратились с идеей, мол, с учетом нового мышления, гласности давайте мы развернем на новом этапе поиски янтарной комнаты. И Горбачёв дал поручение, в том числе Комитету государственной безопасности. Так сложилось, конечно, не без моей инициативы, что на меня вышло это поручение, и я имел возможность ознакомиться с громадным количеством документов, связанных с войной, деятельностью нашей разведки, спецслужб гитлеровской Германии и в какой-то степени даже стал экспертом в этом деле. Но это, вы знаете, очень корреспондировало с моими увлечениями, потому что вся эта работа у меня была за пределами моих обязанностей, задач, которые я решал. Я делал это с большим интересом, я вообще человек увлекающийся в этом плане поэтому и сейчас с удовольствием занимаюсь разными вещами, которые не связаны с основной деятельностью. Мне кажется, жизнь должна быть наполнена наполнена работой. Но мир настолько интересен, что нельзя зацикливаться только на чём-то одном. Я, например, очень люблю путешествовать. Практически ни одного уголка в нашей стране не остаётся, где бы я ни был. Включая Курильские острова, Чукотку, Индигирку. Ты по-другому смотришь на мир, и для молодежи это прекрасное увлечение и способ самореализации. И, конечно, вовлечение в созидательную деятельность. Они по-другому смотрят на мир. Патриотизм воспитывается не словами, а вот такой очень широкоаспектной работой и участием в подобного рода мероприятиях. Мне кажется, вот тогда жизнь полная становится.
– Спасибо за эту вдохновляющую речь. Андрей Станиславович, благодарю вас, что сегодня вы пришли в нашу студию и ответили на вопросы!
- Страница 1
- ››